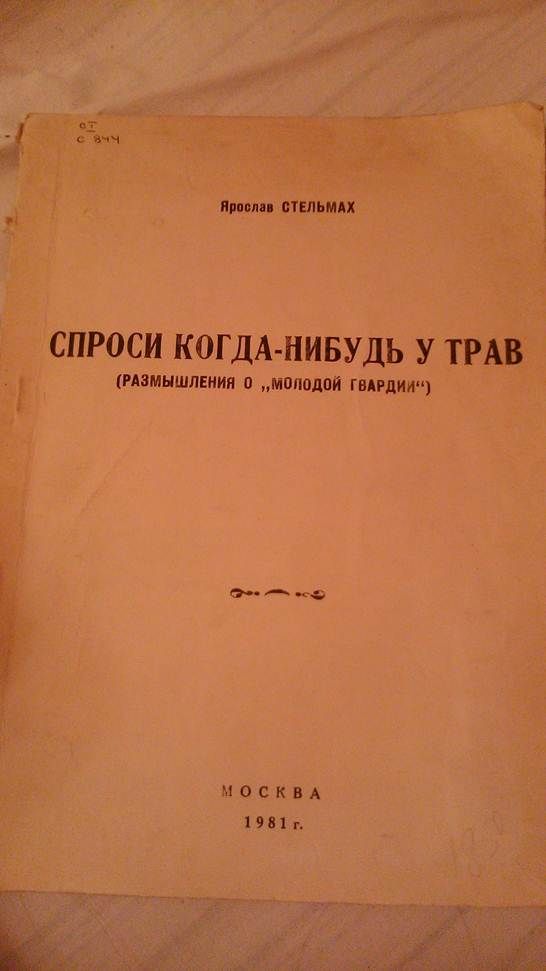
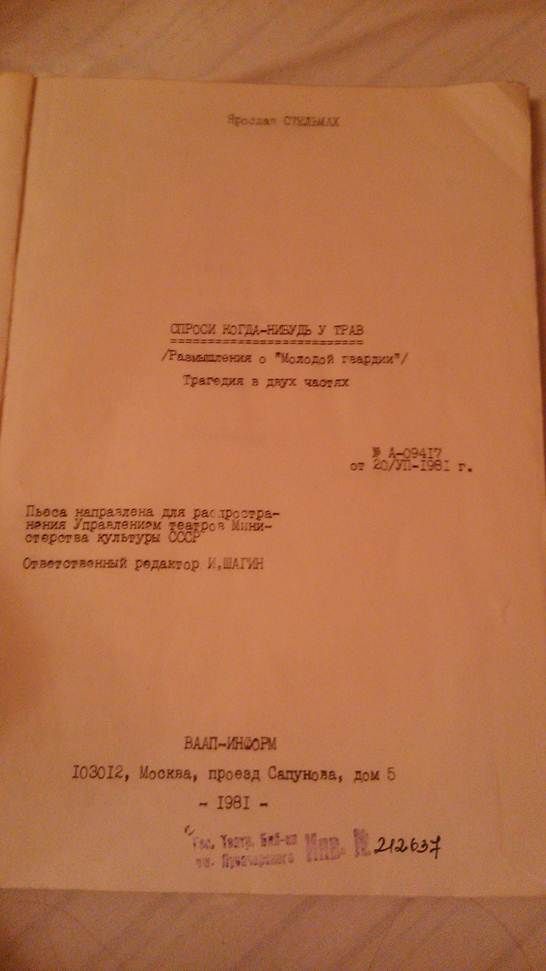
ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА.
ОЛЕГ.
ВАНЯ.
КЛАВА.
ЛЮБКА.
УЛЯ.
СЕРГЕЙ.
ОТЕЦ.
ПРЕДАТЕЛЬ.
ЭСЭСОВЕЦ.
ПАЛАЧ.
ПОЛИЦАЙ.
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.
На
сцене – несколько стульев. Неторопливо и просто выходят и рассаживаются Ваня,
Клава, Уля, Сергей. Олег не садится – стоит, положив руки на спинку стула.
На
секунду все замирают, а затем, словно встретившись после долгой разлуки, но все
же чуть сдержанно здороваются, пожимают друг другу руки и т.д. Лишь Олег так и
стоит немного отстраненно и смотрит в зал. Клава с Ваней сели рядышком, она
что-то говорит ему на ухо, заглядывает в глаза, проводит ладонью по лицу, а он
гладит ее руку… Негромко переговариваются о чем-то ребята, и все интересно им,
и все понятно им с полуслова.
Олег (слегка кашлянул). Ребята!
(Затихли,
смотрят на него, лишь Клава с Ваней видят только друг друга.)
Ваня! Клава!
Ваня. Что?
Олег. Ну, вы все-таки…
Ваня. Мы так давно не виделись. Я так соскучился. Клава,
как я по тебе соскучился!
Олег. Ваня!
Ваня. Ну что – Ваня?
Клава. А любовь?
Ваня. Она ведь тоже была. Ты ведь и сам…
Олег. Да-да. И сам…
Ваня. А сейчас мы собрались на какие-то два часа, и даже
не сами по себе, не по своей воле – в памяти… Так что мне делать, о чем
говорить? Когда-то я снова увижу Клаву!
Олег. Ну хорошо. Но все-таки… Я думал, разговор у нас
пойдет о серьезных вещах.
Ваня. Да брось ты!
Клава. Ой, Олежка!
Олег. Но ты… Вы ведь не правы. Уля1 Сережка!
(Сергей
пожимает плечами)
Ребята,
разве можно так!..
(Вбегает
Любка. В ярком цветастом платье, с банкой варенья в руках.)
Любка. Ой, мальчики! Улечка! Клава! Здравствуйте!
Здравствуйте, милые мои. Я не опоздала? Ну, немножечко, да? Не страшно, правда?
Какие вы все красивые! Сколько же мы не виделись?
Олег. Ну, ты нашла, что надеть. Никакой торжественности.
Такое платье… Какое-то дурацкое варенье в руках. Неужели так необходима здесь
эта банка?
Любка. Нет, наверное. Но…
Олег. Что – «но»? Вечно ты со своими фокусами, выдумками.
Даже сейчас.
Любка. Но ведь меня вот так и арестовали.
Клава (тихо охнула). Хоть сейчас не произноси это слово.
Любка. И на расстрел меня повели в этом платье.
Уля. Люба!
Любка. Почему именно сегодня я должна быть торжественной, а
не такой, как всегда? Или я вообще некстати?
Олег (берет ее за руку). Погоди. Ну, что ты.. Посидим как
когда-то. Сколько врмени проводили вместе! И как сдружили нас те времена.
Уля. Жестокие времена.
Клава (взглянула на Валю). И нежные.
Уля. Это они для вас с Ваней были нежными.
Клава. И не только.
Сергей. Наверное, не только для них.
Любка. Как странно звучит: жестокие нежные времена. Лучше
что-нибудь одно. Привычнее.
Клава. Но ведь так было. Да, война – это ужасно, но ведь
была не только война.
Ваня. Так все переплелось, перепуталось, сразу и не
поймешь, чего было больше – доброго, злого, жестокого, ласкового. Было все.
Странно и давно. Так странно, что и не верится. Так давно, что и не помнится.
Клава. Но ведь о нас с тобой ты помнишь?
Любка. О, а ты все за свое!
Клава. Да, а как же иначе. Я все помню. Все-все. И нашу
первую встречу, и наш последний день, когда мы все выбрались из немецких
грузовых машин…
Уля. Не надо!
Клава. Почему? Ведь все так и было. Были мы, было нам по
семнадцать лет, и мы любили друг друга. И все осталось где-то там, в забытом
прошлом.
Сергей. В забытом?
Любка. Ну, полузабытом… Кто сейчас может сказать: «Да, я
точно знаю все о каждом из этих людей, и как именно все происходило?»
Клава. А разве так важно знать и помнить все до мелочей? И
расписывать историю по секундам? Разве это ужасно?
Любка. А что нужно?
Клава. Немножко памяти.
Любка. Ну, память тоже не вечна. Еще сто лет, двести,
тысяча - и что? У кого им – тем, кто будет через тысячу лет, спросить о нас?
Ваня (отрешенно, с трудом, словно вспоминая). Спроси…
Спроси когда-нибудь… у трав…
Любка. Что?
Уля. Ему плохо?
Клава (кладет ладонь Ване на лоб.) Ванечка!
Ваня. Это ты, Клава?
Клава. Я, я, Ванечка.
Ваня. Уже скоро, да? Уже сейчас?
Клава. Нет! Нет, милый мой. Все хорошо. Все спокойно. Рядом
друзья…
Любка. О чем это он?
Клава. Он представил, он вспомнил тот самый день, когда нас
привезли к шахте номер пять, и он не мог уже двигаться… и я пробралась к нему…
Милый мой! Этого уже не будет. Это было только раз, один страшный раз и не
повторится никогда, ты слышишь? – никогда больше!
Ваня. У трав…
Клава. Это же из стихотворения. Ваня ъотел его написать и
придумал такую строчку. И вот сейчас вспомнил. У него очень хорошая память… все
он быстрее всех запоминал, вы же знаете. (Еле сдерживаясь.) И в шахматы… так
хорошо… А однажды говорит: «Клава, вот послушай, строчка для стихотворения. Как
она тебе?» Так я не знаю, написал он то стихотворение или нет. А, Вань?
(Молчит
Ваня)
Ванечка!
Не молчи. Скажи что-нибудь.
Ваня (после паузы). Я ничего не скажу. Я ничего не знаю. С
некоторыми из них я учился в школе, но с начала почти никого не видел…
Клава. Что с тобой?
(Появляется
Эсэсовец.)
Эсэсовец. Он вспомнил меня. Наши с ним задушевные беседы, да и
не только беседы… А что я мог сделать, если никакие слова, ни просьбы, ни
увещевания не помогали? Я в конце концов небольшой человек, к тому же человек
военный. Мне приказали – я должен был выжать из вас все, хоть кровь из носа.
Сергей. Да, крови хватало.
Эсэсовец. Сами виноваты. Никто из вас… А жаль! Вы думаете, мне
было приятно отправлять вас на пытки? Мне очень хотелось? Да я страдал почти
так же, как вы, видя, как меняетесь вы на глазах, как оплывают от побоев ваши
лица, как бьют вас судороги боли, как у девочек ваших с каждым днем появляется
больше седых волос. Разве этого я добивался? Ведь я такой же человек, как и вы,
- с сердцем, нервами, душой. Люблю поэзию, обожаю музыку…
Любка. Мне кажется, нам только остается броситься друг
другу в объятия.
Эсэсовец. Ты зря смеешься. Мне вас было очень жаль. Но вы ведь
сами виноваты. Почему вы молчали? Я до сих пор не пойму…
(Появляется
Предатель. Взгляды присутствующих прикованы к нему. Он направляется к ребятам,
но те отворачиваются, закрываются руками, отступают от него. Секунду стоит,
переводит глаза с одного на другого, а затем шагает к Эсэсовцу.)
(Тоже
брезгливо отступает. Негромко)
Предатель!
(Уходит.)
Предатель (с горечью). Да. Я для вас – предатель. Ни имени, ни
фамилий, ни привычек, ни увлечений, ни когда родился, ни с кем дружил, ни кого
любил, ни о чем мечтал. Предатель, и все, да? И ничего больше? Емкое словечко –
все в себя вместило. Ловко! А какого мне – никто не подумал? Никто не попытался
представить, почему называл я ваши фамилии? А эта боль! Разрывающая череп боль,
когда не остается ничего – ни плоти, ни рассудка, ни воли, и память
отказывается служить, и ты не в силах даже вспомнить дорогие тебе лица – только
лица палачей; и твоя парализованная мысль отказывается повиноваться и не в
состоянии отдохнуть или забыться хотя бы на мгновение, и ты проклинаешь минуту,
когда родился, и всю жизнь, которая кончается так страшно. Кто, кто из живых,
не испытавших хоть части этого кошмара может меня осуждать?
Уля. Но ведь мы в ответе и перед мертвыми.
Предатель. Нет! (тише) Нет. Они с нас не спросят. Им уже все
равно.
Любка. А тебе?
Предатель. И вообще – почему я должен быть за что-либо в
ответе, бояться, что меня призовут к ответу, держать перед кем-то ответ? Почему
не могу я поступать, как считаю нужным? Или просто удобным, подходящим,
устраивающим только меня? Неужели я должен все время считаться с чьим-то там
мнением и гадать, кто обо мне что подумает? Почему кто-либо имеет право с меня
спрашивать?
Сергей. А долг?
Предатель.
Красивое слово, придуманное теми, кто привык всю жизнь держать себя в узде:
этого не делай, туда не посмотри, с тем не пойди, да что о тебе подумают и что
скажут. Для них долг что-то значит. Слепо подчиняться они могут, а о них потом
напишут: были все подряд отличниками, если хулиганили, то очень мило, так
сказать, шалили, невинно развлекались, если еще какие грехи – все, что спишут:
не было, не видели, не знаем. Зато уж добродетели превознесут… да. В детском
садике нарисовали зайчика, похожего на верблюда, - могу бы стать талантливым
художником, что-то там фальшиво напевал во время уроков – был бы гениальным
певцом, раз в жизни не схватил двойку за контрольную по математике – стал бы
известным ученым, и так далее. А ведь и я был не хуже вас. Не хуже и не лучше.
Я вас всех знал, и все вы были нормальными людьми, обыкновенными парнями и
девчонками. И делали мы одно дело. Так почему же так, а? За что? Ведь называл я
вас не по доброй воле… Где та мерка, по которой вас записали туда, а меня –
сюда: вот он, смотрите, какой плохой? Где?
Голос (бесцветный, громкий и монотонный). Война! Война!
Затем
появляется Полицай – кричит именно он, в темном пиджаке, картузе и сапогах, и
каждый раз, произнося это слово, выхватывает из полумрака лучом своего фонаря
напряженные и неподвижные лица одного-двух ребят.
Полицай. Война с Германией! Война! (Приближается к
Предателю). Слыш, парень? Война началася. Бросай, значит, свое дело – хе – хе!
– собирайся в поход. Такие дела. (Уходит).
Олег (вдогонку). А ты, товарищ?
Полицай (оборачивается). А мне нельзя. У меня и здесь работы
будет – ой – ёй! Вот так. (Уходит, но ещё кричит напоследок.) Война! Война!
И
вот в полумраке сцены все громче и громче звучит клятва молодогвардейцев. К
голосу Олега, произносящему ее, присоединяются, накладываясь друг на друга,
голоса новые и новые. Необязательно всем им звучать отчётливо, важно, чтобы
было понятно: говорится один и тот же текст. И на этом фоне лишь один голос –
первый – прочтет клятву внятно и громко.
Олег. Я, вступая в ряды членов «Молодой гвардии», перед
лицом своих друзей по оружию, перед лицом своих друзей по оружию, перед лицом
всего народа торжественно клянусь: беспрекословно выполнять любые задания
организации; хранить в глубочайшей тайне все, что касается моей работы в
«Молодой гвардии». Я клянусь мстить беспощадно за сожженные, разоренные города
и села, за кровь наших людей, за мученическую смерть героев-шахтеров. И если
для этой мести потребуется моя жизнь, я отдам ее без минуты колебаний. Если же
я нарушу эту священную клятву под пытками или из-за трусости, то пусть мое имя,
мои родные будут навеки прокляты, а меня самого покарает суровая рука моих
товарищей. Кровь за кровь, смерть за смерть!
Замерли
ребята, стоят неподвижно. Появляется Эсесовец. Идет, вглядываясь в каждого,
всматриваясь в лица – словно прицеливается.
Эсесовец (словно про себя). Ты? Нет. Ты? Нет, пожалуй…
Даже
взглядом никто его не удостоил.
Ты?
Тоже нет. (Подошел к Предателю). Ты?
Посмотрел
на него предатель, тут же отвел глаза.
(Обрадовался)
Ты. (Берет его за руку). Пойдем со мной. Пойдем. (Делает несколько шагов).
Предатель. Куда?
Эсесовец. А ты не понимаешь? Не догадываешься? Хитрец. Ну,
ничего. Ты не бойся. Никто ничего не узнает. Только ты и я. И все.
Предатель. О чем вы?
Эсесовец. Ну-ну. Не надо. Сейчас важно не о чем я, а о чем ты
нам расскажешь. Поверь мне – очень для тебя важно.
Предатель. Но почему именно я? Из всех – я?
Эсесовец. Так ведь ты заговоришь.
Предатель. Нет!
Эсесовец (спокойно). Да. Да, и ты это знаешь. Может быть, не
сразу, может, с тобой придется немного повозиться, но в конце концов ты
расскажешь все.
Предатель. Нет, ни за что! Ведь они – мои товарищи.
Эсесовец. Какие они тебе товарищи! Втянули парня в эту свою
организацию, а сами тебя первого и выдадут, можешь быть уверен. Ну ладно, давай
побыстрее, выкладывай.
Предатель. Я ничего не знаю.
Эсесовец. А глаза бегают. Губы-то пересохли. Боишься? Боишься.
Уже хорошо. Страх – мой союзник. Страх мне на руку. Ты еще сомневаешься, тебя
еще мучает совесть – говорить или не говорить, а я уже знаю: скажешь. Все
скажешь, потому что боишься. Это все связано. И очень крепко. Боишься –
предаешь, сомневаешься – предаешь. Колеблешься – тоже предаешь. Прижми тебя
сейчас – и сознаешься во всем. На всех покажешь – на лучшего друга, на отца, на
брата, всех предашь, потому что нет в душе веры, убежденьица нет, а? Я таких,
как ты, знаю. Такие нам очень полезны. Не представляю даже, что бы мы без вас и
делали. Я тебя только увидел, сразу понял – вот он и нужен. Вот он подойдет…
Предатель. Нет!
Эсесовец. Да-да. Это в первый раз предавать трудно, а потом
все легче и легче.
Предатель. Нет!
Эсесовец. Ну чего ты нервничаешь, переживаешь чего? Потому что
знаешь – я прав. Такие мне знакомы. С виду отличные ребята – здоровые,
красивые, косая сажень в плечах, а в глазах что-то нечистое бегает, потому что
знают: было, было в жизни это самое, подленькое, после чего уважать себя
перестал. А нет к себе уважения – все. Предал. И себя, и… Ну ладно, что-то мы отвлеклись.
Я тебя слушаю. Меня интересует все, что связано с организацией и ее
деятельностью. Имена, дела, даты…
Предатель (кричит молодогвардейцам). Нет! Меня же заставили!
Эсесовец. Никто никого не может заставить, если есть в
человеке что-то: вот здесь. (Постучал себя по груди). Но чтобы было тебе
поспокойней, скажу только: ты прав. Ты прав в своем желании помочь нам.
Предатель. Нет у меня такого желания!
Эсесовец (не слушая его). Не терзайся понапрасну. Война вами
проиграна. Да и всем известно: Москва взята нашими войсками. Тебе нечего и
некого стесняться – ваши не вернутся сюда никогда…
И,
резко обрывая последние слова Эсесовца, врывается в зал юношеский голос.
Голос. Земляки! Краснодонцы! Шахтеры! Колхозники! Все
брешут немцы! Москва была, есть и будет наша! Гитлер врет о конце войны. Война
только разгорается. Красная Армия еще вернется в Донбасс.
Постепенно
начинают звучать все новые и новые голоса, читающие тот же текст, - девичьи,
мужские, стариковские, словно передаются слова листовки из уст в уста по всей
Донецкой земле.
Гитлер
гонит нас в Германию, чтобы мы на его заводах стали убийцами своих отцов,
мужей, сыновей, дочерей. Не ездите, в Германию, если хотите в скором времени на
своей родной земле, у себя дома обнять сына, мужа, брата! Немцы мучают нас,
терзают, убивают лучших людей, чтобы запугать нас, поставить на колени. Бейте
проклятых оккупантов! Лучше смерть в борьбе, чем жизнь в неволе! Родина в
опасности. Но у нее хватит сил, чтобы разгромить врага. Читайте, прячьте наши
листовки, передавайте их содержание из дома в дом, из поселка в поселок. Смерть
немецким захватчикам! (Пауза). «Молодая гвардия».
И
разноголосое эхо повторяет два эти последние слова – люди дочитывают листовку
до конца.
-…
Молодая гвардия.
-…
Молодая гвардия.
-…
Молодая гвардия.
И
словно уже не молодогвардейцы на сцене, а случайные прохожие на улицах
Краснодона.
Первый. И-и! Гляди!
Второй. Шо?
Первый. А вон на щите, на плакате.
Второй. Листовка!
Третий. Смотрите, листовка!
Четвертый. Где?
Первый. Пошли отсюда подальше.
Второй. Да погоди.
Пятый. А ну, читай, хто там блыжчэ.
Четвертый. Люди! Листовка! Наша!
Второй. «Молодая гвардия». Шо ж это такое?
Пятый. «Шо-шо». Организация, мабуть, така.
Четвертый. Подпольная.
Первый. Тише! Тише! Чего раскричался.
Второй. Видал, шо пишуть: «Красная Армия еще вернется в
Донбасс».
Пятый. А ты як думав!
Третий. Еще даст им, гадам.
Второй. Шо ж то будет?
Четвертый. «Шо будет-шо будет». Дура! Наши скоро придут, не
понимаешь?
Появляется
Полицай с парой сапог в руке. Сейчас уже за спиной у него винтовка, на рукаве –
полицейская повязка.
Полицай. Чего? Чего собрались? А ну, разойдись! Кому говорю!
Разойдись! Марш отсюда!
Толпа
отступает.
Резким
движением словно срывает листовку со щита, сует ее в карман.
Разойдись!
Направляется,
несуетливо поглядывая по сторонам, за кулисы.
Олег. Что это у тебя?
Полицай. Это? Сапоги, не видишь? Расстреливали мы тут одного
сегодня, а я гляжу – на нем сапоги почти новые. Ну и хе-хе! Снял. С собой же не
забрал бы.
Сергей. А тебе что, немцы сапог не выдали?
Полицай. Как это – не выдали? А во, гляди. Так эти ж тоже
хорошо. Жалко было бросать. Все равно кто-нибудь из наших забрал бы. (Садится
на пол. Снимает сапог с одной ноги). Да и мой размер, кажись. (Меряет). Неужто
не идет? Точно, не налазит. Беда. (Стаскивает «чужой», снова обувает свой
сапог). Черт! Вот у этого подпольщика, которого я, как говорится, выдал,
доложил то есть о нем новым хозяевам, - хорошие были сапоги. Крепкие. Сносу им
не было бы… Уплыли из рук. Надо бы мне, когда мы его брать пришли, сразу
сапожки-то с него и сдернуть. Не догадался. Ну, ничего. Впредь умнее буду.
(Поднялся). Ну, чего уставились? Разойдитесь! (Выходит).
Появляется
Эсесовец.
Эсесовец. Вот вы и вместе, да? Как когда-то. Вместе и умирать
не страшно, да? Шучу, шучу. Страшно. Я понимаю. А виноваты ведь сами. Могли
себя спасти, могли. Не все, конечно… Но все же у вас был выбор.
Любка. Между смертью и предательством?
Эсесовец. Кто это? (Узнал). А-а… Ты. Все такая же. Годы тебя
изменили. Время бессильно, да? То же упрямство, та же безрассудочность, та же
глупость. Да-да, глупость. Иначе и не назовешь. И чего ты добилась? Чего вы все
добились? Ничего. Все погибли. За что? А так просто, ни за что. (Со смешком).
За идею. А идея – вот она. (Хватает рукой воздух и разжимает пальцы). Есть?
Нету. Идеи хороши, если они опираются на штыки, - слава таким идеям! Идеи
хорошо, если они зовут за собой тысячи и миллионы человек. А сколько было вас? Идеи
хороши, если они приносят победу тем, кто им следует. А что принесли они вам? Лично
вам?
Любка. Да и ваши идеи, кажется, принесли Германии немного.
Постепенно
все действующие лица, кроме Любки и Эсесовца, отходят на задний план, затемняются.
Эсесовец. Помнится, мы и тогда не поняли друг друга. (Пауза).
Подойди сюда.
Не
спеша подходит Любка.
Боишься?
Любка. Нет.
Эсесовец (огорчился). Плохо. Но все равно. Говорить-то нам с
тобой нужно. Много есть вещей, которые нам необходимо выяснить.
Любка. Нет таких вещей.
Эсесовец. Упрямишься? И это в твоем-то положении? Вдумайся
только, в каком вы все ужасном, кошмарном положении. У вас есть родные – мамы,
дедушки, сестры, и в то же время у вас их уже нет. У вас есть Родина, но она
уже не принадлежит вам… Все. Нет вас. И не будет. Никогда. Какое жестокое
слово: никогда. Все будет. Не будет только вас.
Любка. Да и вас, во всяком случае, тоже.
Эсесовец. Шутишь, да? Ты что, не понимаешь, насколько все
серьезно? Петля на шее. Вот. Здесь. И сидит туго, и уже натянута веревка.
Только двинься. Попробуй шевельнись. Но ведь можно сделать шаг в другую
сторону. Туда или сюда – вот и весь выбор. Негусто, но лучше, чем ничего. Как
тебе объяснить… Я должен представить какие-то результаты. А что я скажу?
«Молчат»? Войди и ты в мое положение. Здесь, скажут, не можешь себя проявить –
давай на фронт, на восточный. А думаешь, там приятно?
Любка. Да уж точно нет. Особенно в последнее время.
Эсесовец. То-то… (Быстро). А ты откуда знаешь? Сказал кто,
или, может, у кого приемничек слушала?
Молчит
Любка.
Что
за народ! Знают, а молчат – вот что обидно. А я ведь не всегда такой добрый. Я
могу и по-другому. Но зачем, если мы можем поговорить так просто, по-дружески?
Мне ведь много и не нужно. Так, пустяки. Несколько имен, адресов. Здесь, в
Ворошиловграде – ты ведь туда наведывалась, а?
Молчание.
Понимаю.
Да, представь себе, я тебя понимаю: все они твои друзья, приятели. Вместе
учились, вместе в пионеры, так сказать, принимали, в комсомол. Единомышленники…
Как-то неловко, да? – приятеля – и назвать, о друге – и рассказать. Так ведь
лучше ты о них, чем они о тебе. Вас так много. Не может быть, чтобы все
молчали.
Любка. Может.
Эсесовец. Да нет же. Выбор у меня большой…
Любка. У вас нет выбора.
Эсесовец. Ты уверена? Странно… В такое время, когда люди не
могут поручиться даже за себя, ты уверена во всех своих дружках? Но ведь мы
многое знаем. Кто нам рассказал? Да и как ты сюда попала – не догадываешься? Я
советую тебе припомнить, и кто поджег биржу со всеми списками, и кто освободил
военнопленных под хутором Волченск. А красные флаги в канун Октября тоже не вы
развешивали?
Любка. Нет.
Меняется
освещение.
(Поворачивает
голову. В темноту.) Мам, тебе приходилось когда-нибудь красить одежду? Да? Ты
меня научишь?
Голос. Мама, у нас, случайно, нет красной краски?
Любка (улыбнулась). Это Ваня.
Голос. Дядя Коля, у вас когда-то была краска для материи.
Любка. Это Уля.
Голос. Папа, не мог бы ты покрасить в красный цвет
простыню?
Любка. Жорка Арутюнянц.
«Бабушка,
ты поможешь мне перекрасить одну вещь?», «Теть Лен, я хотела у вас попросить
красную краску», «Интересно, а как красится материя?» - все эти реплики звучат
снова, наслаиваясь одна на другую, так, что трудно уже разобрать каждую фразу в
отдельности; слышны только милые и чуть наивные в своем бесхитростном и чистом
обмане юные голоса. Всё громче и громче.
(Резко
показывает вверх). Смотрите!
Вновь
на сцене «случайные прохожие».
Первый. И-и! Гляди!
Второй. Шо?
Первый. А вон, над дирекционом!
Третий. Ах!
Четвертый. Батюшки мои!
Второй. Флаг! Наш! Красный!
Пятый. И справди!
Четвертый. И вон, люди! Над домом «бешеного барина».
Третий. И вон, смотрите, над бывшим райпотребсоюзом.
Пятый. И над школою имени Ворошилова. Хто ж то их почэпыв?
Третий. Кто? Подпольщики. Не знаешь? Маленький?
Четвертый. Говорят, их тут видимо-невидимо нашими оставлено.
Первый. Что-то я их не видел.
Пятый. А то воны прыйдуть до тэбе, скажуть «здрасьте»!
Первый. Пошли отсюда подальше.
Второй. Та погоди.
Первый. Что ж это будет?
Четвертый. «Что будет!» Дурра! Наши счас войдут.
Первый. Ну да! Наши-то где?
Четвертый. Ни «где», а близко. Иди домой да хоть побрейся.
Третий. И над шахтами, люди говорят, развеваются тебе, и
хоть бы что.
Пятый. И до какого прапора по мини отакий привъязано.
Четвертый. Да-да! И только поробуй туда сунься – вмиг разорвет.
Третий. Это ж праздник сегодня! Наш!
Второй. Советский!
Первый. С праздником!
Пятый. Из святом!
Четвертый. С праздничком!
Появляется
Полицай с полушубком, перекинутым через руку.
Полицай.
Соблюдать спокойствие! Разойдись! (Замахивается на кого-то из присутствующих ).
Ух, я тебя сейчас! Кому сказал! А ну!
Отступают
«прохожие», Полицай идет вдоль сцены.
Олег. Что это у тебя?
Полицай. Полушубок, не видишь? Хе-хе! Расстреливали мы
сегодня небольшую группку – человек так с двадцать. Ну их-то ещё до нас
подраздели, в тюрьме, а то смотрю – на одном как раз полушубочек этот. «Давай,
- говорю, - вытряхивайся». Не дает, гад, жадный попался. (Улыбнулся.) Так я ему
прикладом в зубы… Ничего, да? Мех, вроде, на воротнике стоящий. И не потертый
совсем. Еще носить и носить. И теплый. Так что не зря мы их туда водим. Работа,
конечно, неблагодарная, но хоть что-то перепадает. Времена-то тяжелые… Эх,
тяжелые времена. Пайка разве хватит! Они, конечно, хоть и избавители, но
прижимистые. Уж я их, слава богу, раскусил, жмотов. Такого подпольщика им подсунул
– прелесть. Другие бы до конца дней благодарили, а эти… А! Одно расстройство.
(Идет за кулисы. Будто про себя). А разве так можно. Разве ж это
по-человечески! Стараешься на них, стараешься, и такая тебе благодарность…
Неслышно,
словно окружая, крадутся за ним ребята, все вместе они исчезают в темноте. И
вдруг Любка, которая наблюдает за происходящим, чуть вскрикивает и тут же
прикрывает рот ладошкой. Быстро возвращаются на сцену молодогвардейцы. Это
снова «прохожие».
Первый. Батюшки мои! Шо делается!
Второй. А шо?
Третий. А что такое?
Первый. Не знаете? Не слыхали еще?
Четвертый. Да в чем же дело?
Первый. Двух полицаев повесили.
Второй. И-и!
Третий. А-а-а!
Пятый. Ничого соби!
Четвертый. И поделом.
Пятый. Туды й дорога.
Первый. И шо ж это делается!
Четвертый. «Шо!» Наши скоро придут.
Первый. И вроде бы та самая «Молодая гвардия».
Третий. Да что вы!
Четвертый. Это не они отбили стадо у немцев, а охрану
перестреляли?
Второй. А грузовики на дорогах не они подрывают?
Пятый. Та хто их знае…
Освещается
Эсесовец.
Эсесовец. Они, они, а кто же. (Любке.) Так ведь?
Любка
пожимает плечами: мол, не знаю, о чем речь.
Все
молчишь. Во имя чего? Во имя друзей – так они ведь все арестованы, и некому
даже рассказать о твоем геройстве. Во имя Родины? Советской власти? Красной
Армии? А они ушли и хоть бы что. Все оставили, побросали, сами же подорвали,
подожгли, уничтожили. Для чего? Чтобы вам негде было работать. И нечем. А нет
работы – подыхай с голоду, так?
Любка. Не так.
Эсесовец. Ну как же – не так?
Любка. Уничтожили, чтобы не работать на вас.
Эсесовец. И чего добились? Работаете же. Ремонтируете,
исправляете, чините, и скоро все будет как и прежде. А куда денешься? И уже из
подорванной вашими шахты пошел первый уголь.
Любка. И много его идет?
Эсесовец. Пока нет, но… (Осекся). А тебе что, известно? Откуда
ты знаешь, как там идут дела?
Любка. Да я и не знаю. Я просто так спросила.
Эсесовец. Кто тебе рассказал?
Любка. Да люди говорят, что ничего у вас там не получается.
Эсэсовец. Что за люди?
Любка. Да я-то откуда знаю! На базаре, в городе…
Эсэсовец. А-а. И не стыдно? Не стыдно от дяди скрывать? А дядя
хороший. Дядя добра тебе желает. Хочет, чтобы тебе больно не сделали. А
сделают, и я уже ничем не помогу. Ну кто, кто тебе все это рассказывал? Да,
наверное, и не один раз. И не только это. Я знаю. Ведь за вами кто-то стоял. Постарше,
поопытней, да? Поумнее. И даже что-то тебе давал и просил передать еще кому-то.
И ты передавала. Здесь и в Ворошиловграде. А почему бы и нет, если просит
хороший человек, почему бы не оказать ему эту услугу, правда? Не бойся. Никто
не узнает. Только мы с тобой. Ты и я. (Смеется). И все. Ты-то тут при чем?
Маленькая девочка с чемоданом – кому взбредет в голову поинтересоваться, что
там у нее, а? И кто бы мог подумать, что там окажется радиопередатчик, и
маленькая девочка умеет им пользоваться и действует по заданию подпольного
обкома? Обкома! – и об этом не знают даже ее товарищи. Остроумно. Правда, не
очень, но все же лучше, чем если с этим же чемоданом будет идти какая-нибудь тебя
или бородатый дядя…
Любка. Не знаю, о чем вы.
Эсэсовец. Ты заходила к разным людям и, наверное, смогла бы их
описать. Ну, хотя бы некоторых. А иногда вы собирались вместе, и там были Олег,
Иван и этот… Сережка – отличные ребята, и вы пили чай и иногда даже не только
чай, а? (Шутливо грозит пальцем.) И немножко пели. А потом включали приемник и
слушали разные передачи, ну, например, «от Советского информбюро», да? И время
от времени даже записывали кое-что, - так просто, чтобы лучше запомнить. А на
следующий день оказывалось, что эти ваши записи каким-то образом уже размножены
и расклеены на всех заборах, домах и даже на двери полиции. И расклеивали их
ваши мальчики. Очень смелые мальчики. И смелые девочки. И ходили они парами.
Будто бы гуляют. Мальчик и девочка. А листовки наклеивали медом. Быстро и
негрязно. И не нужно носиться с клеем… Ты, конечно, можешь этого не знать,
скорее всего ты не знаешь, это я тебе рассказываю так просто. И все у вас
получалось, и все было прекрасно, на удивление прекрасно, пока – вот незадача –
попались вам те мешки на грузовой машине. И нужно же было вашим мальчикам на
них позариться…
Появляется
Предатель.
Предатель. Вот-вот! А я о чем! Зачем нужно было воровать те
мешки? Чья это была дурацкая затея? Ведь чаще всего попадаются не на крупных
делах, а на таких вот мелочах.
Олег. Ты прекрасно знаешь, что организации нужны были
деньги.
Предатель. Так и нужно было напасть на какую-нибудь полковую
казну, на банк, на поезд, на магазин… Много вы тогда выручили?
Олег. Нет, немного.
Предатель. Вот-вот! А потом по камерам, да?
Олег. Но ведь по камерам – из-за тебя.
Предатель.
Не надо. Не будем. Боже мой! Наши были уже на подходе, вот-вот войдут в
Ворошиловград… Да нужно было вообще расползтись по щелям, забиться в норы,
выждать каких-то несколько дней. Вы же понимали, что вас ищут. Что вам дали эти
две-три недели? Без вас бы справились. Без вас бы обошлись. Да другим бы – во!
На всю жизнь хватило бы. Почет и уважение, все прекрасно. Но нет. Нашим
командиру с комиссаром все мало. А еще те трое – из клуба имени Горького. Им
больше других надо. Да стояла себе машина – и на здоровье. Какое мне дело, что
в ней. А этим нужно залезть в кузов, все обшнырять, общупать.
Ваня. Ты ведь знаешь, что организации…
Предатель. Знаю-знаю! «Нужны были деньги». Так хоть выждите
недельку-другую. Нет, надо раздать сигареты из этих мешков пацанам и отправить
их торговать на базар. И конечно, ожин из них тут же попадается и называет три
фамилии.
Эсесовец. Не сразу…
Предатель. Но назвал же!
Эсесовец. А куда бы он делся. Маленький мальчик… Сперва не
хотел ничего говорить, но потом его повели в такую небольшую комнатку внизу –
всем она вам прекрасно известна, - где с потолка свисали всякие веревки и
крючья, очень удобные для подвешивания, и на столе аккуратненько лежали
всяческие плети, щипцы, шомпола, стояло два топчана, кругом – пятна крови, а
вдоль стен – стоки, сами понимаете для чего. И храбрый мальчик, едва очутился в
этой камере, тут же выложил все, что знал, - к сожалению, знал он немного, - он
просто назвал три фамилии.
Предатель. Еще бы! Ему-то чего молчать. Назвал, получил пинка
под зад – и отправляйся к маме на печку. А я в той камере провел часы… Сутки
пыток и страданий, когда ты теряешь сознание, а тебя обливают водой, и она
течет, красная от твоей же крови, по этим самым стокам, а тебя снова мучают.
Какого черта нужно было давать сигареты этому пацану и ставить под угрозу всю
организацию? Что скажешь, комиссар?
Пауза.
Олег. Время! Как жестоко ты! Как подвело ты меня! Почему
не был я мудр и стар, почему не затаились во мне боль и усталость, и
осторожность, и опыт долги лет; почему так много не умел я, не успел, не смог,
не сделал? Как виновато ты, время! Сердце мое! Птица моя печальная! Почему не
превратилось ты в сто жаворонков быстрых, сто журавлей белых, сто филинов
мудрых – не постучало в окно каждому из моих товарищей? Как виновато ты,
сердце! Руки мои! Почему не взметнулись вы над землею, не защитили, не
прикрыли, не заслонили друзей моих, сестер моих – братьев? О, эта боль! Больно
мне…
Появляется
Отец.
Это
вы?
Ваня. Это ты, папа?
Не
отвечает Отец, подходит к Ване. И снова всех, кроме отца с сыном, скрывает
полумрак.
Отец. Зачем к тебе вчера заходил Сережка?
Ваня. Так, поболтать, а что?
Отец. Ты думаешь, я не знаю, о чем вы с ним… болтаете?
Ваня. Если ты подслушиваешь – значит, знаешь.
Отец. Ничего я не подслушиваю. Но это и так понятно.
Причем не только мне, а каждому дураку в городе, едва взглянет он на ваши
заговорщицкие рожи, если он не полный идиот, сразу станет ясно, о чем вы…
треплетесь. С Сережкой, с Машкой, с Дашкой, еще бог знает с ем – со всеми, кто
в последнее время ошивается почему-то возле нашего дома. Что им здесь нужно?
Что за повышенный к тебе интерес, что за беготня днем, ночью, утром, вечером?
Где ты бродишь ночами, когда в городе установлен комендантский час, когда людей
арестовывают ни за что, по малейшему подозрению, когда ребят твоего возраста за
здорово живешь увозят в Германию? Ты считаешь, все может и дальше так
продолжаться?
Ваня. Не знаю, что ты имеешь ввиду. Я не делаю ничего
плохого.
Отец. Да, еще бы! С точки зрения Советской власти. Она
тебе, конечно, спасибо скажет, когда вернется. Если вернется.
Ваня. Папа!
Отец. Нужно уметь смотреть правде в глаза.
Ваня. А ты умеешь!
Отец. Да, я умею. Как и все здравомыслящие люди. И как ни
горько, нужно признать…
Ваня. А я не хочу признавать!
Отец. Вот! Вот! (Ребятам). Слыхали? С этого и начинай:
никого слушать не желаю, делаю что хочу; авторитетов для меня не существует. На
родителей – плевать, на власти – плевать…
Ваня. Какие власти.
Отец. Те, которые у нас. Здесь. Сию минуту. А не те,
которые смотрят сейчас на тебя с умилением: «Ах, какого хорошего мальчика мы
воспитали». А мальчик, кстати, - чей-то сын, и его могут в любую минуту
вздернуть на глазах у родителей или, что еще вероятнее, вместе с любящими его
папой и мамой – веселенькая будет картинка! Ну, что ты молчишь, что ты
уставился на меня, остолоп несчастный! Поможет тебе твоя власть, когда ты
будешь болтаться на веревке? Вот, пойди на площадь, полюбуйся. Уже такие, как
ты, были. Многого они добились?
Ваня. Немногого, потому что у них, наверное, были такие же
родители. Вместо того, чтобы помогать…
Отец. Чему помогать? В чем помогать? Ты же сказал, что
ничего не знаешь и ничего не делаешь.
Ваня. А я ничего и не знаю.
Отец. Кому помогать? У них, видите ли, еще не прошло
детство, им вздумалось поиграть в войну! В классы вам нужно играть. В фанты. В
казаки-разбойники, и то не слишком громко, слышишь? – шепотом, если хотите
остаться в живых.
Ваня. А я не желаю шепотом.
Отец. Та-ак. Дождался. От любимого сыночка. Благодарности.
Всю жизнь, всю жизнь мы с матерью угрохали на тебя, на тебя с Нинкой, думали,
заботились, чтобы было у вас что надеть, в чем выйти… Что пожрать, в конце
концов!
Ваня. Да нет, папа. Не то ты говоришь.
Отец. Уж куда нам! Ты теперь самый умный; мы тебя выучили,
все, что там в школе нужно было, ты уже знаешь – давай, учи теперь ты нас жить.
Ну, давай! Значит, перво-наперво все записываемся в вашу эту организацию, да?
Будем, значит, бить проклятых оккупантов, немецко-фашистских захватчиков. Чем
ты их бить будешь? Вилами? Лопатами?
Ваня. У нас есть оружие.
Отец (растерялся). Та-ак. Вот оно куда зашло. (Вдруг
всхлипнул). Ванечка Сынок. Ты же наш сын. Сыночек. Вот ты и Нинка, и никого
больше нет. Что же ты, а? А если тебя как тех, на площади? Господи, страшно
подумать даже такое. Ну, не надо, а? НУ зачем оно тебе? Зачем тебе все это?
Ведь правда, если разобраться, - где наши? Где они? Бегут.
Ванин
протестующий жест.
Ну,
отступают, обороняются, отходят на заранее подготовленные позиции, - как еще
сказать, я не знаю… Ты же посмотри трезво – какая у них силища. Силища, Ванюша.
А вас сколько – десять человек? Ну двадцать, ну, пускай, сто. Что! Вы! Можете!
Сделать! Объясни ты мне. Может быть, я чего-то не понимаю. Может, вы разобьете,
к чертовой матери, всю их армию, - так я тогда первый к вам присоединюсь.
Скажу: «Вот он я. Пришел. Берите всего. За Родину жизнь отдам». Нет, правда, я
не шучу.
Ваня.
А мы тебя не возьмем, папа.
Отец
удивленно посмотрел на него.
Нам
так нужно: если наверняка, то и я с вами; ия хочу драться, только дайте слово,
что выйду победителем да еще и в живых останусь. А я не знаю, папа, и никто не
знает, останемся мы в этих самых живых или нет. Хочется, а вот как получится –
сказать не могу. И потом… Ведь на нас надеются. Старшие товарищи.
Отец. Кто? Что? Какие старшие товарищи?
Ваня (помедлил). Подпольный райком партии, папа.
Отец. Подпольный райком? Настоящий?
Ваня (чуть усмехнулся). Да, папа. Настоящий.
Отец. Вон оно что… Вот, значит, какие дела… Так это он вам
указывает, что делать?
Ваня. Не только он.
Отец. А кто еще?
Ваня. Совесть, папа, советского человека.
Отец. Я понимаю, понимаю, Ванюша. Ты не думай, что я, мол,
предатель какой, изменник. Ты же сам знаешь – я всей душой за нашу власть, за
Родину, и работал верой и правдой, и люблю страну нашу… да как же иначе, иначе
и быть не может…И я в конце концов советский человек, и вас воспитывал всегда в
уважении, и… не дай бог тебе подумать, что я как-то радуюсь, что ли, или просто
поддерживаю немца… Ведь и я хочу, очень хочу, чтобы наши поскорее пришли. Но
живем-то мы здесь, в оккупации. Я боюсь, Ваня. За вас с Нинкой, за маму твою… А
вдруг что узнают, прощупают… А народ – он же тебя первого продаст, лишь бы не ты
его. Ты ведь жизни не знаешь. Все тебе прекрасным кажется, в розовом свете. Раз
советский человек – значит, хороший. Раз в передовиках ходил – на него
положиться можно. Он тебе посоветует, укажет. Да, посоветует, а сам тут же в
гестапо побежит.
Ваня. Ты, папа, неправильно рассуждаешь. Нельзя же на
всех…
Отец. Не всех! Не надо всех! На тебя и одного такого
хватит. И на тебя, и на дружков твоих. И шутить с вами не будут. Ты думаешь, я
не знаю, что у вас за разговоры такие, не догадывался раньше, что за дела
ночные у вашей братии, да зачем вы в красный цвет наволочки красили? А
полицаев, думаешь, я не понимаю, кто повесил? Послушай ты меня, послушай хоть
последний раз в жизни батьку своего. Вот только это пообещай, и все. И живи как
хочешь, больше и слова тебе не скажу. Не надо тебе с дружками твоими, не надо.
Плохо все кончится, чует мое сердце. Немцы цацкаться не привыкли. Неудобно
тебе, скажи – батька не разрешает. Хочешь, запру тебя, чтоб никто и близко к
тебе не подходил. Пойдешь на работу…
Ваня. К немцу?
Отец. К немцу, а к кому ж? Где ты еще работу найдешь?
Чтобы числился только. Не надо стараться. Не надо. Но чтобы тихо было. И все.
Послушайся, Вань. Мы же на тебя с мамой молиться готовы. Ванюша! Ну хочешь, на
колени… Пощади ты меня, а? Пощади ты отца своего!
Ваня. Не надо, пап. Я иначе не могу.
Отец (потерянно). Значит, с ними? Они тебе дороже родного
отца?
Ваня. Нет, папа… Но я с ними. (Отступает к друзьям и стоит
между ними и отцом).
Медленно
отходит отец, медленно обводит всех ребят взглядом… и вдруг бросился к Ване,
обнял его крепко… А затем так же медленно ушел. Быстро заходит Эсесовец.
Эсесовец. Ты Иван Земнухов?
Молчание.
Иван
Змнухов ты?
Ваня. Да, это я.
Эсесовец. Пойдем.
Ваня
оглянулся на друзей, шагнул раз, другой…
И
вот уже ни Вани, ни Эсесовца на сцене нет.
Олег. Мы как раз той ночью поймали и записали сообщение
Совинформбюро об окружении огромной группировки немцев под Сталинградом, и все
были очень веселы, мало сказать веселы – мы были просто счастливы…
Вбегает
Сергей.
Сергей. Ребята! Сегодня утром арестовали Мошкова, Земнухова
и Витю Третьякевича.
Постепенно
взгляды присутствующих обращаются на Олега.
Уля. Что же делать, Олег?
Гаснет
свет.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ.
Те
же люди, та же ситуация, то же напряженное состояние действующих лиц, что и в
конце первой части.
И
снова звучит Улин вопрос.
Уля. Что же делать, Олег?
Олег. Лучшие наши товарищи… Я думаю… Да ведь не зря же мы
все учились стрелять! У нас есть оружие. Нападем на тюрьму. Свяжемся со
старшими. Они обязательно помогут. Мы их освободим!
И
с каждой фразой этого маленького монолога все теснее окружают Олега
молодогвардейцы. Все, кроме Предателя, - так и стоит он на месте.
Предатель. Ну и как, освободили?
Олег. Нет, и тебе это прекрасно известно. Потому что через
три дня арестовали тебя, так просто, без всякой уверенности, что ты из «Молодой
гвардии» - в те дни арестовывали всех подряд, - и на первом же допросе… Как
жаль, что ты тебе так верили, что ты знал очень многих из нас! (Пауза). Сердце
мое! Как больно мне!
Предатель. А мне было не больно? Разве я не догадывался, чем
это все может кончиться? Что мешало мне плюнуть на всех и вся и двинуть куда
подальше?
Уля. Если бы ты так и поступил!..
Предатель. И что бы это изменило? Не я – так другой. Нашлись бы
и среди вас желающие кое-что порассказать. Только до вас как следует не
добрались.
Сергей. Не добрались? Дрянь ты! Толе Попову отрубили ступню,
Володе Осьмухину – руку, Вите Петрову выкололи глаза…
Любка. Не надо!
Предатель. Правильно! Давай! Вали на меня. Я во всем виноват, я
вас всех повыдавал. Но зачем вспоминать об этом сейчас. (Пауза). Не все ли мы
равны перед вечностью – хорошие, плохие, честные, - не все ли мы равны?
Уля. Нет! (Спокойнее). Нет.
Предатель. Уж ты могла бы быть и подобрее. Тебя-то я как раз и
не назвал.
Уля. Лучше бы ты назвал только меня.
Предатель. Я не мог. Потому что я тебя люб…
Уля. Нет! Не произноси это слово. Ты не можешь его
произносить.
Предатель. Почему? Почему ты отказываешь мне во всем
человеческом? Даже сейчас я не могу признаться, что любил тебя? А я все мечтал
– вот кончится война, и мы с тобой…
Уля. Не смей продолжать.
Предатель. Все потому же? Из-за того, что я не выдержал? У меня
и так ничего не осталось. Пожалей хоть ты меня. Что может быть печальнее, чем
человек, от которого все отвернулись! И только воспоминания еще теплятся в нем
– о том, что было, о том, что могло бы быть. Где же твоя доброта, твое
милосердие? Из-за единственной промашки, из-за человеческой слабости вечно
будет на мне каинова печать? Это жестоко! Жестоко! И ты… Ведь тебя я не назвал.
Уля. Ты назвал меня…
Предатель. Нет! Неправда.
Уля. Первая же фамилия, которую ты произнес, была моей.
Предатель (умоляюще). Нет…
Уля. Потому что я была в каждом из моих друзей. Каждым из
них была я, и все они были мною. Раны каждого из них жгли меня, и сердце мое
рвала их боль. Почему не было у тебя того же чувства, почему собственные
страдания затмили в тебе страдания твоих товарищей, и не представил ты их –
каждого, названного тобой, - перед тем, как назвать, на своем месте,
истерзанного и израненного? Даже девочек, подруг моих, не пожалел. Какая же
может быть жалость к тебе?
Предатель. Предал, да, пусть будет это страшное слово – предал,
но ведь всего один раз, не по доброй воле…
Освещается
Эсесовец.
Эсесовец. Да-да. Это все понятно. Но что-то мы задержались. (В
сторону). Эй, кто там у нас следующий?
Входит
Палач с Любкой.
Палач. То-то я заждался. Аж руки чешутся. Ну ничего, сейчас
мы разомнемся, да? (Шутливо толкает Предателя в бок). Пойдем, парень.
Предатель. Почему? Куда? Я ведь уже все рассказал!
Палач. Ничего. Авось еще что-нибудь всплывет в твоей
памяти. Какая-нибудь деталь, маленький, на первый взгляд ничем не
примечательный эпизодик, а там глядишь – и вырисуется что-нибудь стоящее
внимания. И моя задача – помочь тебе в этом.
Предатель. (то Эсесовцу, то Палачу). Я же все рассказал. Я
ничего больше не знаю. Я ведь рассказал все, что знал. Все!
Палач. Такие, как ты, всегда припоминают что-нибудь
интересненькое. Даже чего не знают. (Берет его за локоть, ведет за кулисы).
Надеюсь, ты и сегодня не разочаруешь нас. Пой-дем. Пойдем…
Предатель (слабо сопротивляется, оглядывается). Нет! Нет!
Не-ет!
Уходит.
Эсесовец. И охота играть в кошки-мышки? Ведь заговорите. Все
равно заговорите. Да-да. Ну что ты все смотришь, господи! Это я на тебя должен
так смотреть, потому что бьюсь с тобой и цацкаюсь невесть сколько времени. И не
хочется мне этим заниматься, поверь мне. Ведь и у меня есть дети. Милые детки,
которые ждут не дождутся, когда папка вернется с чертовой войны, навезет им
подарков…Лучше бы ты заговорила. Ты себе не представляешь, насколько это лучше.
Ведь когда не хотят говорить сами – приходится заставлять. О, ты не знаешь, как
это делается. Я отведу тебя – пока только посмотреть, - и ты убедишься.
Взрослые мужчины рыдают как дети и проклинают минуту, когда появились на свет.
Детей мучают на глазах у матерей – есть такой метод… О, как тяжело переносить
эти крики – женские, мужские, детские. Пойдем, друг мой. Тебя сейчас проводят.
Увидишь, как там занимательно. (Делает шаг в сторону, жестом приглашая за собой
Любку. Девушка не двигается с места.) Ну что же ты? Уж не испугалась ли?
(Улыбнулся). А я думал, ты ничего не боишься. Пойдем, это придаст тебе
бодрости, когда ты увидишь, чего можешь избежать.
Стоит
Любка.
Не
хочешь? (Слегка тянет ее за руку). Пойдем, посмотришь все своими глазами.
Любка. А вам никто не говорил, что вы – скотина?
Эсесовец (отпустил ее). Говорили. Твои друзья.
Любка. И вы, наверное, не удивитесь, услышав это же от
меня?
Эсесовец. Не удивлюсь… (Сильно бьет ее наотмашь по лицу. Тут
же берет под руку. Ровным голосом). Пойдем, детка. На такой экскурсии ты еще не
была. Пойдем. (Ведет за собой). Осторожно, здесь высокий порог. Не споткнись.
(Кричит в противоположную сторону). Следующего!
Заходит
Ваня.
И
ты пока молчишь, да? Ты считаешь, так будет лучше? Дело чести, дело принципа,
обязанность, долг – знакомые понятия, да? Но ради чего? Не задумывались ли вы
когда-нибудь, ради чего придерживаются самых высоких принципов? Да ради жизни.
Ради того, чтобы жить, чтя эти принципы. Мертвым они не нужны. Какой абсурд,
вдумайся, - смерть и принцип. Ведь самые высокие помыслы и идеи, придуманные
человечеством, подчинены одному – жизни. Нет смысла выше, чем наше
существование, и обязанности большей, чем жить. Жить – вот вам долг перед
Родиной, перед близкими и перед судьбой. Но для того, чтобы выполнить его,
скажи мне…
Ваня. Нет.
Эсесовец. Но ты даже не знаешь.
Ваня. Я не буду говорить.
Эсесовец. Несколько преждевременное заявление – ведь ты лишь
слегка успел познакомиться с нашими методами ведения допросов. Пока. А может,
лучше и не знакомиться?
Ваня. Еще бы!
Эсесовец. Ну и отлично.
Ваня. Но наверное, придется.
Эсесовец. Что ты! Зачем? Ты не представляешь, что из тебя
сделают. Калеку ан всю жизнь.
Ваня. Да ведь жизни, я так понял, не осталось.
Эсесовец. К чему такие разговоры? Что за настроение? Наоборот,
нужно думать о жизни. Именно сейчас. Когда живешь просто, беззаботно, легко, не
задумываешься, что послано тебе такое счастье – жить, чувствовать, любить… И
только в тяжкие минуты начинаешь взвешивать и прикидывать – сколько же ты
прожил, что же ты сделал…
Ваня. Да, сделан мало.
Эсесовец. Не совсем. По мне – так сделали вы предостаточно. Ну
так как?
Секундная
пауза. Ваня отрицательно качает головой. Они стоят на значительном расстоянии
друг от друга и при последних репликах поворачиваются лицом к залу – так,
обращаясь к залу, и кончают они свой разговор. И вдруг Эсесовец бьет кулаком в
воздух на уровне живота: одновременно Ваня сгибается, будто удар пришелся по
нему. Затем следует удар ребром ладони сверху, снизу – коленом и снова сверху
основанием кулака. Ваня падает, и тогда Эсесовец пускает в ход ноги. Фигура его
постепенно затемняется. Появляется Клава, робко приближается к Ване, опускается
перед ним.
Ваня (поднимает голову). Клава?
Клава. Да.
Ваня. А ты разве не там? (Кивок).
Клава. Нет, я с тобой. Я всегда с тобой.
Ваня. Да, Я знаю. Ты всегда…
Клава. Мы, как прежде, вместе.
Ваня. Только… место не совсем подходящее.
Клава. Не обращай внимания. Это неважно. Ты со мной, как и
раньше. Как когда-то. И мы уже всегда будем вместе.
Ваня. Да, уже скоро.
Клава. Ты… Так странно говоришь…
Ваня. Странно? Нет. Милая, ты еще не совсем понимаешь.
Клава. Почему? Я понимаю. То нас убьют, да? Но это ничего не
меняет. Не мгу же я из-за этого тебя не любить. Или любить меньше. Наоборот. С
каждым днем… Мне раньше казалось – уже нельзя любить сильнее, чем я. А сейчас я
поняла – можно. Я с каждым днем люблю тебя все больше. Странно, да?
Ваня. Нет.
Клава. И не потому, что я знаю – нас скоро не будет. Я даже
забываю об этом и могу не вспоминать целыми днями. А потому, что мне тебя не
хватает. Очень. Тебя всего, твоих рук, твоих глаз… Даже очков. Где твои очки?
Ваня. М-м-м… Я их потерял. Знаешь, в камере так темно.
Клава. Я знаю. Тебе их разбили. В первый же день, когда
швырнули на окровавленный топчан и стали бить… Я так плакала тогда. Когда
узнала… Когда девочки сказали мне, что видели, как тебя несли – без памяти, в
крови, с опухшим лицом… Как мне было больно, Ванечка.
Ваня. Не надо. Ну зачем ты? Всех нас… Не думай об этом.
Нужно думать о хорошем, особенно сейчас. Постарайся.
Клава (сквозь слезы). Да. Я постараюсь. Я стараюсь все
время. Я только о хорошем и думаю. Я только и думаю о нас с тобой. Как бы мы
могли быть…
Ваня. Клава!
Клава. Все! Не буду – не буду.
Задумались.
Ваня. Ты стояла у окна…
Клава. Ты стоял у машины…
Ваня. .солнечный свет падал тебе на плечи…
Клава. Было очень рано. Еще даже не рассветало…
Ваня. И волосы твои так странно светились…
Клава. А потом опустился на снег – ты уже не мог стоять…
Ваня. А мочка левого уха так красиво и розово
просвечивалась. И тогда я увидел тебя словно в первый раз.
Клава. И я увидела тебя и чуть не закричала. От горя, от
боли за тебя, от нежности – я не знаю. От чего больше; и я пробралась к тебе и
положила руку тебе на лоб; и ты вздрогнул, а потом как-то сразу успокоился, и
мы уже были вместе.
Ваня. Да, я почувствовал чье-то прикосновение – к тому
времени я уже почти ничего не чувствовал, - и понял: рядом – ты. Я чуть не
заплакал – от радости, что ты рядом, и что все так скоро кончится. Как мне
хотелось, чтобы это было неправдой, чтобы не было тебя среди нас, чтобы я ошибся!
Но ошибиться было невозможно. Твоя ладонь, твоя бесконечно милая прохладная
ладонь с совсем холодными подушечками пальцев – стоял мороз тем ранним утром –
лежала я меня на лбу, ты была рядом, и я понял – мы уйдем вместе. Я знал, что
ты где-то среди наших девочек, но все же теплилась во мне робкая надежда: а
вдруг! А вдруг тебя выпустят, вдруг о тебе забудут, вдруг не окажется тебя с
нами в то жестокое утро… Но ты была рядом. О, как хотел я этого! Как хотел я,
чтобы все это было неправдой!
Клава. Мы так мало были вместе за всю нашу жизнь. Как бы
хотела я бесконечно продлить те часы и дни! Почему так мало отвела нам судьба?
Как хотелось мне быть с тобою вместе, навсегда! Почти с того самого дня, когда
мы оба опоздали на урок и стояли у окна в школьном коридоре.
Ваня. Ты стояла у окна…
Клава. Будет ли еще там кто-нибудь стоять?
Ваня. Солнечный свет падал тебе на плечи…
Клава. Как завидую я им! Как завидую я всем, кто будет
после нас!
Ваня. И волосы твои так странно и красиво светились…
Клава. Пусть оберегает их наша любовь. Ведь любовь не
умирает. Она остается с людьми.
Пауза.
Ваня. А может, все началось не тогда? А когда на
контрольной меня посадили рядом с тобой, и мы сидели близко – так близко – и не
замечали, что иногда касаемся друг друга то локтем, то коленкой, и вдруг ты…
Клава. Я подняла глаза и увидела, что ты смотришь на меня
так странно… И потом уже все время до конца урока я чувствовала, как ты
украдкой на меня посматриваешь. И на следующий день, и потом. И я стала ловить
себя на мысли, что мне уже нужен твой взгляд, хотя и было как-то неловко,
особенно поначалу.
Ваня. И я почувствовал – ты смотришь на меня уже не так,
как раньше, и понял, что и в тебе начали звучать те же непривычные и щемящие
нотки, что и во мне.
Клава. А потом раз сказал, что нам по дороге, и мы пошли
вместе, и забрели в какую-то местность, где я никогда и не была, и плутали
среди незнакомых палисадников и домиков, и плутали немного понарошку, потому
что совсем нелегко заблудиться в нашем городе.
Ваня. А когда все же выбрались на твою улицу, то уже обоим
было ясно: теперь мы часто будем ходить вот так – без цели, куда глаза глядят,
слоняться по каким-то окраинам, потому что нам нравится, нам хочется быть
вместе.
Клава. И мы ходили.
Ваня. Мы гуляли.
Клава. И подолгу не шли домой.
Ваня. И не думали о неприготовленных уроках.
Клава. А раз у какого-то покосившегося сарая…
Ваня. Я тебя поцеловал. Ты помнишь?
Клава. Конечно. Я помню все… А однажды ты сказал мне одну
странную фразу.
Ваня. Какую?
Клава. Конечно. Я помню все… А однажды ты сказал мне одну
странную фразу.
Ваня. Какую?
Клава. Ты сказал… Сейчас… Вот: «Спроси когда-нибудь у
трав…»
Ваня. Да-да.
Клава. И я не поняла, что она означает.
И
тут мы видим словно бы маленькое отступление в прошлое.
Что
это за фраза?
Ваня. Это строчка такая. Из моего стихотворения.
Клава. Странная строчка.
Ваня. Нет. Совсем не странная. Это только так кажется.
Клава. Непонятная.
Ваня. Вот когда я его напишу – ты вес поймешь.
Клава. А о чем оно будет?
Ваня. О нас.
Клава. Прямо о нас… с тобой?
Ваня. И о нас с тобой.
Клава. Ой, Ванечка, ну прочти.
Ваня. Так оно ведь еще не готово.
Клава. А ты уже много написал?
Ваня. Вот пока только одну строчку.
Клава. Ой, а долго еще ждать?
Ваня. Не знаю. Наверное, очень хорошее стихотворение можно
писать всю жизнь.
Клава. Это мне что же, ждать еще шестьдесят лет?
Ваня. Почему?
Клава. Ну, лет по семьдесят пять мы ведь проживем, правда?
Подумать только – неужели мы будем такими старенькими! И будут у нас дети, и
внуки, и жить мы будем долго и счастливо, и умрем в один день, правда? Как в
сказках. Чтобы никто из нас не горевал по-другому. И даже если ты, извини
меня, Ванечка, - тьфу, тьфу, тьфу! – умрешь раньше, я уже до вечера не доживу.
Ваня. Ну что у тебя за мысли!
Клава. Это чтобы ты знал – я тебя очень люблю…
Пауза.
Чуть освещаются остальные молодогвардейцы.
Ваня. А раз у какого-то покосившегося сарая я тебя
поцеловал.
Клава. Да. Сперва снял очки, а потом поцеловал.
Ваня. Я думал, они будут мешать…
Сергей. Э-э! Кончайте, вы! Вы еще сейчас начните целоваться.
Ваня. А что? И начнем. А, Клав? Назло ему. Что же тут
плохого?
Сергей. Да плохого, конечно, ничего. Но речь-то у нас не о
том.
Ваня. Ты опять за свое. Олег, скажи ему. Можно подумать –
мы целыми днями только и делали, что ходили на задания. А ты сам? А Олег? А…
Сергей. Это верно. Но кажется, речь у нас сегодня все-таки
не о том.
Олег. Не совсем о том.
Уля. О том, но не только.
Ваня. И о том… (Посмотрел на Клаву).
Клава (поднимается). И ты снял очки…
Ваня. Я думал, они будут мешать…
Отступает
Клава. Появляется Палач.
Палач. У тебя такое выражение лица, словно ты думал о
чем-то приятном.
Ваня. Так оно и есть.
Палач. Господи! И он еще находит в себе силы думать о
приятном. Это упрек мне. Плохо же я выполняю свою работу. Ну, ничего.
(Закатывает рукава). Сейчас мы что-нибудь сообразим…
Олег. Постой, палач! Не спеши брать в руки страшный
инструмент свой. Неужели не дрогнет твое сердце, не замрет рука? Не задумаешься
ты ни на минуту, не почувствуешь ничего, кроме желания вырвать слова
предательства, черные слова измены, и порадуешься ли искренне, если тебе это
удастся?
Палач. А чего задумываться! Служба идет, война катится. Ха!
Все же здесь лучше, чем на передовой. Спокойнее. Крови, правда, многовато, но
где же ее сейчас нет? На то и война. Не-е, я доволен. Мне больше ничего и не
надо. Харч хороший, условия подходящие… Работы, правда, в последнее время
многовато, но где же ее нет, работы. Даром хлеб никто не ест. Каждый по-своему
трудится: один доносит, другой пытается, третий предает. (В темноту). Правда,
парень?
Освещается
предатель.
Предатель. Да когда же это кончится, господи! Сколько еще все
это может продолжаться! При чем тут я? Не обращайся ко мне. У нас с тобой
ничего общего.
Палач. О-о, тебе только так кажется. Ты очень ошибаешься.
Мы сейчас с тобой как браться. (Смеется). Братья по греху. Только твой грех
тяжелее. Я-то их никого не знал, да мне и все равно, кто передо мной, а ты…
Тяжек грех твой, и носить ты его будешь вечно.
Предатель. Нет же, нет! (Ребятам). Скажите ему, а? Молчите…
Неужели нет у вас для меня ни одного хорошего слова? А сколько раз я выполнял
задания штаба! Клеил листовки, и… Ведь я боролся вместе с вами. Почему же вы
там, а я здесь, и уготованы мне презрение и черная память? Это же
несправедливо! Один-единственный раз…
Уля. А ведь твое предательство началось раньше, - когда
ты узнал об аресте трех наших товарищей.
Предатель. Раньше? Когда?
И
снова ретроспекция: конец первой части.
Вбегает
Сергей.
Сергей. Ребята! Сегодня утром арестовали Мошкова, Земнухова
и Витю Третьякевича.
Небольшая
пауза.
Уля. Что же делать, Олег?
Олег. Лучшие наши товарищи… (Пауза) Я думаю… Да ведь не
зря же мы учились стрелять! У нас есть оружие. Нападем на тюрьму. Свяжемся со
старшими. Они обязательно помогут.
Уля. (Предателю, который так и стоит в стороне). Вот!
Тогда, да? В ту минуту, когда заговорил в тебе страх и представил ты себе все
возможные последствия этого ареста, ты предал нас впервые. Когда шевельнулась в
тебе дикая и неожиданная мысль: «А не лучше ли самому? Не лучше ли первому,
пока не поздно, пойти и рассказать все, что я знаю?»
Предатель. Да ты что? С чего ты взяла?
Любка. Ты даже представил, как пойдешь в жандармерию, как
будешь ждать в длинном и узком коридоре, пока тебя не впустят в кабинет… И там
уже расскажешь все, но сперва попросишь никому не говорить, что донес именно
ты.
Сергей. Но и тут ты испугался: а вдруг кто-нибудь из нас
узнает об этом, вдруг устроят тебе очную ставку с твоими товарищами по оружию,
а вдруг – мало ли что шибанет в голову этим полицаям! – оставят тебя в тюрьеме,
а то и не просто как свидетеля. Ведь ты действительно ходил на задания. «Не-ет,
- подумал ты, - пережду несколько дней». Но через несколько дней они пришли за
тобой сами. И на первом же допросе… Как жаль, что ты знал очень многих из нас!
Олег. Почему в мыслях твоих и снах расстрелянные и
замученные люди наши вызвали в тебе не чувство гнева и мести, а лишь чувство
страха? Как и в тот раз – помнишь? – когда ты не вышел расклеивать листовки. Ты
уже было совсем собрался, но глянул в окно и увидел: двое полицаев ведут не
знакомого тебе человека. И снова все задрожало в тебе, и ты опустился на лавку
и сидел долго… Уже прошло назначенное время сбора, уже товарищи твои выполнили
задание… Но без тебя. В ту же ночь мы поспали к тебе связанного – мы
беспокоились о тебе, и ты сказал, что весь вечер возле твоего дома стоял
полицай, и ты решил не рисковать всей операцией…
Хочет
что-то сказать Предатель, но ему не дает Сергей.
Сергей. Но ведь это была неправда. Думаешь, ты тогда предал
только друзей? Ты предал себя. И стал Предателем. Не для всех – тогда лишь для
себя. Но ты уже понимал, что будешь предавать еще и еще. Потому что предатель
один раз нельзя.
Олег. А может, твой первый раз был не тогда, а ы десятом
классе, когда шпана прицепилась к твоей девушке или, возможно, даже не твоей, а
просто к девчонке, которую ты видел первый раз в жизни – в ситцевом платьице и
с короткой стрижкой?
Уля. Ты возвращался тогда с танцев и думал, вполне
возможно, о такой же девчонке или другой, совсем не похожей на эту. А эта, в
ситцевом платьице, шла впереди, еле различимая в темноте, юная и гибка и
легкая. Летний ветерок даже доносил до тебя какую-то мелодию – она тихонько
напевала что-то про себя, но иногда несколько ноток просто слетали с ее губ –
такое чудное было у девушки настроение, и летний ветерок подхватывал эти нотки
и перебрасывал их тебе; и ты шел сзади, не решаясь подойти, или даже совсем не
думая о том, чтобы подойти, когда навстречу ей из-за кустов вышло трое пацанов,
трое ребят твоего же возраста и загородили ей дорогу…
Олег. Ты весь сжался от холодного и жестокого
предчувствия, и где-то под солнечным сплетением у тебя противно засосало. А те
трое подошли к ней вплотную, и один из них положил ей руку на грудь. Девушка
отпрянула, откинула резко руку, но двое других уже держали ее цепко и противно,
и что-то говорили прямо в лицо, и ухмыляясь, и один из них, с папиросой в
зубах, выдыхал дым ей в глаза, и девушка закашлялась и снова постаралась
вырваться, но разве было ей это под силу?
Сергей. О, как было тебе это все противно, с каким
наслаждением ты измесил бы в кровь их похабные рожи, но ты стоял за кустом
сирени, прижавшись спиной к чьему-то забору, и боялся повернуться и побежать
назад, чтобы они тебя не заметили. Ты не видел, что они делали, ты только
слышал их голоса и вскрики девушки. Это продолжалось недолго – минуты две-три.
Наконец они ее отпустили, и девушка, всхлипывая, побежала прочь, а они прошли
мимо тебя, гогоча и весело обсуждая случившееся, и водочный перегар забил запах
сирени, а радостная их матершина еще долго стояла у тебя в ушах. Как ненавидел ты
себя в ту минуту!..
Предатель. Ведь я был один! Что я мог сделать?
Уля. Но ведь она тоже была одна!
Предатель. Да ей-то что! Потискали и отпустили. А попадись им
я, так и убить могли бы.
Олег. Вот-вот. Правильно. Именно так ты и подуиал. И
успокоился, потому что нашел себе оправдание.
Предатель. Интересно, что бы ты сделал на моем месте?
Сергей. А может, ты предал себя еще раньше, когда лучшего
твоего друга…
Предатель (кричит.). Хватит! Вы мне еще детсадик вспомните. Ну,
было, да, было. Ну и что? С вами никогда не случалось ничего подобного? Так я
и поверил. Только об этом никто не хочет помнить. Вы сейчас там, на пьедестале,
с вас все списано, а я здесь. На меня теперь все можно валить. А другие! Взять
хотя бы нашего начальника полиции, а бургомистра – их ведь никто не заставлял.
Сами пошли, сами предложили, сами стали служить. А я? И после всего вы ставите
меня на одну доску с ними?
Уля. Еще не хватало, чтобы ты сам нас называл.
Предатель. А они? Никто их не заставлял.
Уля. Но ведь ты был наш. Свой. Лучше бы тебе сразу пойти
к ним. Как все было бы проще. Ты ведь не просто называл наши фамилии…
Протестующий
жест.
Хорошо,
у тебя не просто вырывали наши фамилии. У тебя отнимали наши жизни. Никто из
нас потом там, в тюрьме, не назвал тебя и вообще не назвал никого. Почему же ты
оказался таким слабым? И себя ты не спас.
Предатель. Но все-таки это случилось со мной только однажды. И
незачем приплетать сюда всю мою прошлую жизнь.
Входит
Любка.
Любка (даже как-то устало). Перестань. Мне казалось, ты должен
был понять: нельзя предать лишь один раз. Это всегда будет только первым разом.
Появляются
Эсесовец с Палачом.
Эсесовец. (Предателю). Да-да. Я же тебе говорил. (Палачу)
Уведи его.
Предатель. Куда?
Палач. А ты не знаешь?
Предатель. Опять? Опять?! Но ведь я все рассказал! Все. Больше
уже никто не знает. Слышите – никто!
Палач
тянет его за собой.
Ну,
хорошо, пусть. Я вспомню еще что-нибудь! Я еще что-нибудь обязательно вспомню.
Эсесовец. Вот видишь – и еще один раз. И еще, и еще… Этих раз
было бы очень много. Но нет смысла продолжать. Прощай, парень.
Предатель. Что? Почему – прощай?
Эсесовец. Да потому, что это уже навсегда.
Предатель. Но я ведь все…
Эсесовец (махнул рукой). А! Ну и что? Кроме тебя, никто из них
не произнес ни слова.
Предатель. Но я же в этом не виноват. Я же ни при чем!
Эсесовец (посмотрел долго). Ты действительно ни при чем.
Скрылись
Предатель с Палачом, но Эсесовец постоит еще немного, словно прикидывая: что же
делать. Заметил Любку, шагнул к ней.
Вот
и все… И чего вы добились? Ты должна была еще в школе усвоить простую истину:
побеждает сильнейший. Разве не было тебе ясно с самого начала, кто из нас
сильнее? Ах, как неразумны мы бываем! Чувство товарищества, чувство
патриотизма, любовь к Родине – это навсегда, да? Это свято? А между тем –
какого товарищества? Вы даже не признаетесь, что знакомы. Вы надеялись, если
будете молчать, нам ничего не станет известно? А знаешь, ведь мы вас так и
отбирали: кто молчит, тот, скорее всего, и принадлежит к «Молодой гвардии». В наших
руках ведь перебывала уйма людей. Уйма! Видишь, даже молчание – ненадежный
союзник.
Любка. И никто из наших не сказал ни слова?
Эсесовец. Никто… Э-э, ты что? Ты плачешь?
Любка. Это… Это от счастья.
Эсесовец. Бог мой! Какого счастья?..
Любка. Что никто из моих друзей не сказал ни слова.
Эсесовец. Какое странное понятие о счастье! Ну что ж, вы
знали, на что идете, догадывались, как мы с вами поступим. Через многое вы
прошли, очень многое… Но все-таки объясни мне. Я хочу понять – почему? Ведь
никого нет вокруг вас. Никого и ничего. Пустота. На что вы надеялись? Должна же
быть у человека хоть какая-нибудь надежда. Иначе он сломлен, не человек, не
личность. Или это – слепой фанатизм? Но такое объяснение было бы слишком
простым. Тогда - что? Ну, скажи мне – что? Или я вообще ничего не понимаю. Но
должен же я понять. Нет вещей, которые понять невозможно.
Любка. Есть. Есть такие вещи, и вы не сможете понять их
никогда. Даже тогда, когда на самых на окраинах не останется ни одного
проклятого фашиста, когда люди наши вздохнут легко и свободно; и мир будет, и
любовь, и дружба еще крепче нашей, потому что умерли мы ради этого. Вы даже не
в состоянии понять совсем простой вещи: вы не сильнейший, и вы не победили. И
вам никогда, запомните, никогда не удалось бы меня победить.
Эсесовец. Бог мой! Как, наверное, нужно ненавидеть!
Любка. Ненависть – ваш удел. И еще…
Эсесовец. Погоди… Может быть, ты и права… Но нет! Сила
все-таки у меня. И я решаю вашу судьбу. И приказал вас убить. И вас убьют.
Любка. Это не от силы. Это от бессилия.
Эсесовец. Что ты говоришь! Что ты говоришь! (Шагнул к ней, но
нет уже Любки на сцене).
Освещается
Ваня – сидит на стуле, не двигаясь и уже почти не понимая, что происходит
вокруг.
(Замечает
его). И ты? И ты?.. (Но, почувствовав, что ответа не добьется, поворачивается и
медленно выходит).
Появляется
Клава, подходит вплотную.
Клава. Ванечка, тебе больно?
Ваня. Нет-нет, нисколько (Открыл с трудом глаза). Мне
совсем не больно. Иногда мне кажется – я уже не способен чувствовать боль.
Входит
Палач.
Палач. Ха! Ну это просто так кажется. Может быть, от
усталости – твоей или моей. Но потом это чувство проходит. Всегда, знаешь,
найдешь какой-нибудь способ расшевелить пациента. Что-нибудь свеженькое.
Ваня. Уйди. Уберись хоть из моей памяти.
Палач. Милый мой! Раз со мной встретившись, люди уже не
забывают меня никогда. Папу-маму забудут, а меня – нет. До самого смертного
часа. А почему? Потому что главное – любить свое дело. Раз любишь свое дело, то
и относишься к нему по совести. Палач – своего рода показатель естественных и
нужных процессов, которые движут миром. Раз человечество само не может
справиться с естественным отбором, наша обязанность – помочь ему. Тысячелетний
рейх только начал свое существование, а сколько уже сделано! А сколько еще
предстоит сделать! Так что я спокоен – без работы не останусь. (Подмигивает).
Верно?
Ваня. Уйди ты отсюда.
Палач. Х-х! Я уйду, я уйду… (Идет за кулисы. Обернулся,
посмотрел на Ваню. (Серьезно). Прощай, парень. (Покачал головой. Ушел).
Клава. Как это ужасно! (Едва касаясь, проводит ладонью по
Ваниному лицу). Как они тебя…
Ваня. Ну-ну. Не надо. Ты теперь так редко приходишь ко мне
веселая… Что это у тебя?
Клава. Где?
Ваня. Вот, на лбу. И вот. И на губе… А руки! Что с твоими
руками?
Клава (прячет руки за спину). Ничего.
Ваня. Бедная, бедная моя! Они тебя… тоже.
Клава. Они… не только меня. Всех наших девочек. Каждый
день… Это ужасно. Я не выдержу, Ванечка. (Всхлипнула).
Ваня. Не надо, милая моя. Ты выдержишь, ты все выдержишь.
Я ведь тебя знаю. И я выдержу, потому что я люблю… Тебя. И всех наших ребят. И
думаю о тебе даже там. (Кивок в сторону, куда ушел Палач).
Клава. Да. Я знаю. Я чувствовала это. И все время, все это
несчастное время я гордилась тобой, слышишь, Ваня? И сейчас… Я вот только сказала,
что не выдержу. Не верь, не верь, Ванечка. Я выдержу все. Потому что где-то
рядом ты, потому что ты вес выдержишь, и потому что я хочу, чтобы ты гордился
мною тоже. И там, в камере, я вижу твое лицо, твои милые близорукие глаза, твои
губы… и подступает к груди такая нежность! Как мы были бы счастливы! И у нас
тоже был бы домик под этернитовой крышей, а у забора росли бы жасмин и сирень.
И ты приходил бы усталый с работы, а у меня все было бы уже готово. И ты бы мыл
руки и поглядывал из кухни в горницу, и я проходила бы мимо тебя – то с борщом,
то с хлебом… и смотрела бы, как ты ешь… А еще будет так…
Ваня (мягко). Не будет. Не будет, Клава.
Молчание.
Клава. Да… Не будет. Ничего не будет. Не будет Ванечки.
(Проводит его по волосам). И Клавы не будет… (Пауза). Я только одного хочу. Об
одном я прошу судьбу, если есть еще она у нас, - чтобы ты умер раньше меня. Еще
несколько дней назад я хотела, чтобы это случилось сперва со мной, но потом
решила: пусть лучше я выстрадаю все, пусть я выдержу еще и этот удар, и если не
умру от горя, не сойду с ума – то хоть каким-то жестоким утешением будет мне
то, что ты страдал меньше. Меньше на мою смерть. Я очень люблю тебя, Ваня. И
хочу, чтобы так и было. Чтобы ты уснул у себя в камере, тихо и спокойно, и уже
не проснулся И пусть так будет, если осталась еще в этом мире хоть капля
справедливости.
Ваня. Но ведь так не будет.
Клава. Не будет… Какие ужасные слова, какие страшные фразы
приходится произносить мне из любви к тебе. Как тяжело… Почему я еще живу,
вымолвив их, как сердце мое не разорвалось от одной мысли о смерти твоей? Живуч
человек и вынослив, - но зачем? Стоило ли столько тысячелетий бороться за
жизнь, чтобы теперь просить смерти близким своим к себе? (Пауза). Прощай, Ваня.
Прощай, любимый. Увидимся ли?
Ваня. Мы увидимся. Мы еще увидим друг друга и уже не
расстанемся… И умрем в один день. В то самое утро, еще до рассвета, мы
выберемся из грузовых машин во дворе шахты номер пять, и ты проберешься ко мне…
Клава. Я проберусь к тебе, положу ладонь тебе на лоб, и мы
уже не расстанемся. Мы возьмемся за руки и полетим вместе…
Ваня. В шурф шахты номер пять.
Клава. Нет! Мы полетим не вниз. Едва отпустят нас руки
фашистских солдат, как мы поднимемся над землей и полетим – все выше и выше,
все дальше и дальше: от войны, от слез, от мук и горя, пока только небо, только
небо и звезды не окажутся вокруг нас. И Земля исчезнет из виду, и мы уже не
сможем различить ее среди миллионов других светящихся точек, и сами станем
частью Вселенной, двумя бессмертными т вечными ее песчинками, потому что мы
любим друг друга. (Пауза). Правда, Ваня? Правда?
Молчит
Ваня. Смотрит отрешенно и безучастно перед собой.
Подожди,
Ваня. Еще минуточку!
Молчание.
Клава кладет ладонь ему на лоб.
Ваня (очнулся). Что? Уже?
Клава. Нет. Нет еще… Я давно хотела спросить: что значила
та строчка, помнишь? Из стихотворения. Ты его дописал? Ты сказал, оно будет о
нас.
Молчание.
Ты
уже не слышишь меня, Ванечка? Не надо. Не говори. Я и так знаю. Ведь травы… Они
вечны. Можно уничтожить все, но травы… Они вечны. Они все видят. И молчат. Но
тому, кто очень хочет… кто умеет из слушать, они расскажут все. Все, что знают.
Подошли
неслышно остальные молодогвардейцы, стали рядом.
Тише.
Вы слышите? Это растут травы…
И
пока медленно гаснет свет, так и стоят ребята все вместе.
Конец.

